
Продолжение. Начало: Эпизод 1
С другой стороны, можно поспорить о недозавершённом правлении Павла I как о времени несбывшихся надежд. Но несомненно, что принципиальное и важное отличие правления Александра I от царствования отца состояло в том, что сын долгое время не мог, даже самые прекрасные свои мечты реализовывать без поддержки или минимум молчаливого одобрения хотя бы части самого близкого ему блока: уже духовно однородного боярства и дворянства. Именно при Александре I и начало постоянно существовать и влиять на общественную жизнь России пока ещё только дворянское общественное мнение, на которое даже лучшие из предыдущих царей в основном плевали.
Правда, многие из будущих царей ещё в XVIII веке использовали зачатки общественного мнения в своих корыстных интересах, например, во время ведения ими активных действий для завоевания престола. Но по достижении вожделенной цели, они довольно часто совершенно переставали учитывать это самое мнение, правя исключительно, по собственному разумению. А иной раз и сами выразители общественного мнения пугались собственной свободы и отказывались как от этого общественного, так и от собственного мнения. Подобное, например, произошло по воцарении Анны Иоанновны.
Другой вопрос, стоило ли опираться на это, по определению, в основном, ретроградское общественное мнение (ведь русских интеллигентов тогда было крайне мало), которое выражало в первую очередь свои мелкие и ничтожные интересы самых верхушечных дворянских классов. Ведь слишком часто, то, что некоторыми безнадёжными оптимистами называется общественным мнением, выражается в резюмировании тезисов собрания состоящего из, объективно говоря, тупиц и негодяев.
Такое происходило и до сих пор происходит, конечно, не только в нашей стране. В России, в частности, это собрание во времена Павла I, да и во многие другие царские времена, практически никогда не учитывало интересов абсолютного большинства крепостного населения России. Может быть именно поэтому, помимо всего прочего, «самодур»-император так охотно и во всеуслышание чихал на широкое общественное мнение своих суперэгоистичных дворянских подданных по самым разным вопросам.
При этом вполне возможно выдвинуть предположение, что если бы Павел I прожил дольше, скорее всего, история России стала бы писаться строками с другим содержанием. Этот император несомненно пытался что-то сделать и делал для народа. Скорее всего, он бы, может быть почти по-петровски, тиранскими и железными методами вводил бы правильные законы, к ним бы постепенно, как и после Петра I, привыкали. И Россия бы пошла почти по (более) европейскому пути развития, в дальнейшем привычно принимая на веру пока ещё новое, которое потом, уже по традиции, или, скорее, по здравому размышлению, не нуждалось бы более в необходимости потребовать этому какого-либо разъяснения или оправдания. Начала бы даже, как это и бывает при нормальных преобразованиях, вырабатываться привычка к хорошему новому, или просто к изменившемуся положению вещей.
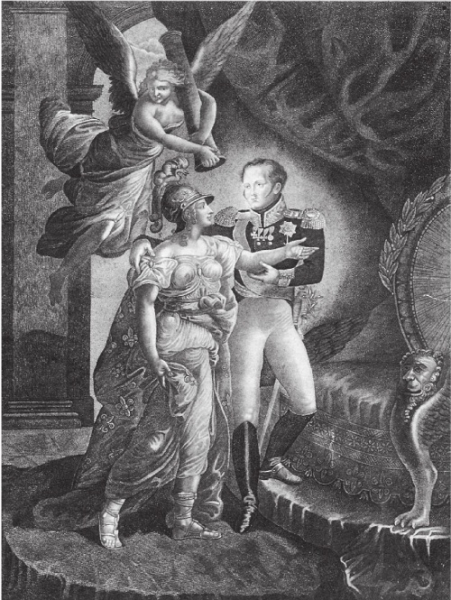
Но уже свободные в духовном смысле к тому времени дворянские личности не дали зарвавшемуся в ущемлении их свобод «тирану» ввести давно назревшие реформы. В частности, Павел, наверняка вспоминая об Указе своего отца «О вольности дворянства», вполне мог бы попытаться жёстко отменить крепостного права. Но против этого выступало слишком подавляющее большинство представителей этого самого ретроградского дворянского общественного мнения, которое потом еще долго противилось принятию окончательного решения по крестьянскому вопросу, участвуя в различных комитетах, в частности, во времена Николая I.
Да и не только ретрограды противились. Например, признанный передовым для своего времени писатель Николай Карамзин, почти русский интеллигент, был ярым защитником крепостничества. В свое время он даже подавал Александру I специальную докладную записку «О древней и новой России», в которой описывал все блага крепостного состояния большинства российского населения для развития страны. По-видимому, эти самые блага были не слишком ведомы этому императору, недаром же он издал Указ «О вольных хлебопашцах».
Карамзин был далеко не самый худший из русских людей, хотя и безнадёжно влюблён в тогдашнюю всероссийскую экономическую практику, которая позволяла ему не заботясь о хлебе насущном записывать свои умные сочинения. Что же говорить о многих других дворянах, большинство из которых мыслили о производственных отношениях внутри страны ещё хуже, чем тот же Карамзин. Он, кстати, по утверждению некоторых историков, будучи честным человеком, настолько близко к сердцу принял ситуацию, связанную с выступлением Декабристов и их последующим осуждением, они, как известно, выступали в числе прочего и против крепостного права, что заболел и скончался вскоре после казни пятерых из них.
При Александре Павловиче зафиксирована и первая попытка ввести российскую Конституцию. Она готовилась в условиях эйфории от победы над наполеоновской Францией и, видимо, под некоторым влиянием общественного мнения военных-дворян, в том числе, и участвовавших в заграничных походах русской армии будущих декабристов, подсмотревших нечто подобное в других странах, через которые им довелось пройти.
Правда, основные положения этого проекта Конституции России, несмотря на попытку воплощения идеи некоего народного представительства и внедрения принципа разделения властей, сводились к конституции в известном анекдоте. В нём племя людоедов предложило захваченным ими французу, американцу и русскому написать им основной закон. Француз списал свой проект с Декларации прав человека и гражданина, американец ‑ с Декларации независимости. Их проекты не понравились вождю и этих заграничных законодателей немедленно съели. Русский же пленник написал: «Параграф первый. Вождь всегда прав. Параграф второй. Если вождь не прав, смотри параграф первый». И нашего соотечественника освободили и, по всей видимости, утвердили заместителем вождя по конституционным вопросам.
Тем не менее, фиксирование на бумаге и учреждение даже того основного закона, который предполагал ввести Александр I, скорее всего сконцентрировал бы усилия большинства свободномыслящих российских людей на нормальные, а не революционные возможности его изменения. И постепенно ушла бы в прошлое голословность прописных истин закона. Но к тому времени, возможно, и под влиянием всё той же победы над Наполеоном, Александр уже почувствовал прочность своей власти, окончательно осознал её самодержавность, перестал бояться заговоров против себя, и в значительной степени отказался от ориентирования на тогда всё ещё довольно-таки хилое российское дворянское передовое общественное мнение и поддался неумным ретроградам.
Царю в подобной ситуации оказалась не нужна даже такая куцая Конституция. Впрочем, возможно, что Александр I к тому времени пришёл к неким выводам, которые, как утверждают некоторые историки и писатели, способствовали его превращению в Фёдора Кузьмича и его реформаторские всероссийские мысли превратились в реформаторство исключительно личного порядка.
Следующую попытку принять российскую Конституцию, как известно, совершил уже более чем через полвека только племянник Александра I.
Продолжение следует
